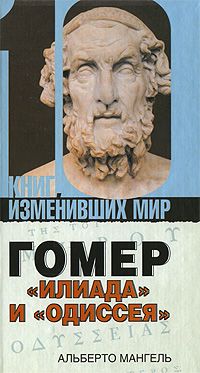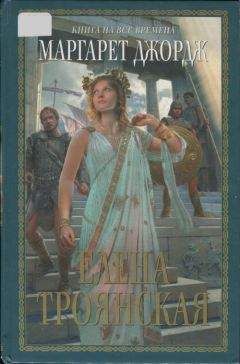Но Платон знал, каким у него должен быть Эрот, и со слов Сократа, а последний со слов Диотимы, в знаменитых диалогах «Пир», создает весьма странный и противоречивый образ бога, который юн, хотя он самый древний из богов, он даже не бог, а демон, связующее звено между богами и людьми, он воплощает любовь, но не вообще, а именно как стремление к красоте, которой он лишен. В самом деле, сын Афродиты даже от Гефеста не годился для этой роли, чтобы воплощать стремление к тому, чего ему не хватает, стремление к красоте. Какой тут идеализм? Эстетика в чистом и всеобъемлющем виде.
В «Пире» его участники высказывают различные представления греков об Эросе, но это лишь подготовка к речи Сократа, который в свою очередь воспроизводит речь об Эроте одной мантинеянки Диотимы. Словом, по сказке Платона, Эрот - спутник и слуга Афродиты: «ведь он был зачат на празднике рожденья этой богини, кроме того, он по своей природе любит красивое: ведь Афродита красавица. Поскольку же он сын Пороса и Пении, дело с ним обстоит так: прежде всего он всегда беден и, вопреки распространенному мнению, совсем не красив и не нежен, а груб, неопрятен, необут и бездомен; он валяется на голой земле, под открытым небом, у дверей, на улицах и, как истинный сын своей матери, из нужды не выходит. Но, с другой стороны, он по-отцовски тянется к прекрасному и совершенному, он храбр, смел и силен, он искусный ловец, непрестанно строящий козни, он жаждет рассудительности и достигает ее, он всю жизнь занят философией, он искусный колдун, чародей и софист. По природе своей он ни бессмертен, ни смертен: в один и тот же день он то живет и цветет, если дела его хороши, то умирает, но, унаследовав природу отца, оживает опять».
Таковы свойства и происхождение Эрота, он не предмет любви, а любящее начало, и представляет он собой любовь к прекрасному. Но это в самом общем виде. Ведь прекрасное - это и благо, и произведения искусства и ремесла, и в особенности музыка и поэзия. Не всякое стремление к благу любовь, а любовь со всем ее пылом и рвением - это стремление родить в прекрасном как телесно, так и духовно. А почему именно родить?
«Да потому, - отвечает Диотима, - что рожденье - это та доля бессмертия и вечности, которая отпущена смертному существу. Но если любовь, как мы согласились, есть стремление к вечному обладанию благом, то наряду с благом нельзя не желать и бессмертия. А значит, любовь - это стремление и к бессмертию».
Для большей ясности: «Те, у кого разрешиться от бремени стремится тело, - продолжала она, - обращаются больше к женщинам и служат Эроту именно так, надеясь деторождением приобрести бессмертье и счастье и оставить о себе память на веки вечные. Беременные же духовно - ведь есть и такие, - пояснила она, - которые беременны духовно, и притом в большей даже мере, чем телесно, беременны тем, что как раз душе и подобает вынашивать...
Да и каждый, пожалуй, предпочтет иметь таких детей, чем обычных, если подумает о Гомере, Гесиоде и других прекрасных поэтах, чье потомство достойно зависти, ибо оно приносит им бессмертную славу и сохраняет память о них, потому что и само незабываемо и бессмертно».
Вот каковы таинства Эрота, во что посвятить попыталась Диотима Сократа, а он своих собеседников, прежде всего Алкивиада. Следует начать смолоду с устремления к прекрасным телам. Полюбить сначала одно какое-то тело и родить в нем прекрасные мысли, с тем станет ясно, что красота одного тела родственна красоте любого другого и что если стремиться к идее красоты, то нелепо думать, говорит Диотима, будто красота у всех тел не одна и та же. И приходит пора, когда человек ценит красоту души выше, чем красоту тела... От насущных дел он должен перейти к наукам, чтобы увидеть красоту наук и т.д.
«Вот каким путем нужно идти в любви - самому или под чьим-либо руководством: начав с отдельных проявлений прекрасного, надо все время, словно бы по ступенькам, подниматься ради этой высшей красоты вверх - от одного прекрасного тела к двум, от двух - ко всем, а затем от прекрасных тел к прекрасным делам (нравам), а от прекрасных дел к прекрасным учениям, пока не поднимешься от этих учений к тому, которое и есть учение о высшей красоте, и не познаешь наконец, что же есть красота».
Что же это - прекрасное само по себе, высшая красота? Диотима не дает отчетливого определения, это ясно. Владимир Соловьев полагает, поскольку он знает, что это, что Платон чего-то недодумал, то есть ему не открылась истина, и он потерпел катастрофу. Но Диотима, а с нею Сократ и Платон, словно возражает христианскому мыслителю: «Неужели ты думаешь, - сказала она, - что человек, устремивший к ней взгляд, подобающим образом ее созерцающий и с ней неразлучный, может жить жалкой жизнью? Неужели ты не понимаешь, что, лишь созерцая красоту тем, чем ее и надлежит созерцать, он сумеет родить не призраки совершенства, а совершенство истинное, потому что постигает он истину, а не призрак? А кто родил и вскормил истинное совершенство, тому достается в удел любовь богов, и если кто-либо из людей бывает бессмертен, то именно он...» Мы знаем их имена, имена бессмертных на веки вечные.
Философское учение Платона, сформулированное им лишь фрагментарно, получившее впоследствии разностороннюю разработку у Аристотеля и неоплатоников III и VI веков н.э., обладает удивительной полнотой именно как эстетика, эстетика классической эпохи и классического искусства, что находит пленительное воплощение в изваяниях Праксителя при последних отблесках заката Золотого века Афин.
Ослаблением Афин и Спарты и их союзников в длительной Пелопоннесской войне воспользовалась Персия. Через сто лет после Марафона и Саламина, в 386 году до н.э., все греческие города-государства малоазийского побережья оказались под властью персидского царя, который при этом напрямую влиял на взаимоотношения Афин и Спарты. Между тем возрастала угроза со стороны Македонии, недавно варварской страны, потянувшейся к образованию и культуре Эллады. В 338 году до н.э. при Херонее греки потерпели поражение от войска царя Филиппа II, под эгидой которого Греция была объединена.
Таким образом, с утратой могущества Афины лишились и свободы. Но эпоха классики продолжала еще сиять над Элладой, подчиняя своему влиянию чужеземных властителей. Этот уникальный феномен будет постоянно проступать в течение IV века и в завоеваниях Александра Македонского, а затем и целые тысячелетия, определяя развитие европейской цивилизации и культуры.
Эпоха классики - это вечное солнце Эллады. Оно недавно взошло, на памяти двух-трех поколений. Мы наблюдали внутренний расцвет Греции, ее мысли, ее искусства с формированием классического стиля, первым и полным воплощением которого предстал Парфенон с его архитектурой и скульптурными ансамблями. Величие и достоинство, простота и жизненность изваяний Акрополя воплощают героизм, высокую гражданственность и торжество победы. Но такое состояние духа, такое умонастроение не длится долго. Наступает перелом с осознанием вселенского трагизма бытия, что нашло воплощение в аттической трагедии. Трагический миф, разыгранный на сцене через действие, поэтическое слово и пение, приводит к катарсису.
Катарсис - это особое состояние, к которому греки стремились постоянно, начиная от жертвоприношений богам и торжественных похорон и кончая всевозможными празднествами, а наиболее чтимые Элевсинские мистерии, Олимпийские и Панафинейские игры, не говоря о Великих и Малых Дионисиях. Но бедствия с утратой могущества Афин оказали такое же воздействие на афинян, как творчество Эсхила, Софокла, Еврипида в целом, при этом это воздействие было повседневным и длительным, с утратой и свободы в итоге.
Именно в таком состоянии катарсиса Платон сформулировал фрагментарно свое учение об идеях, Эросе и красоте, что, кстати, носилось в воздухе эпохи и что воплотили в мраморе и бронзе три величайших после Фидия скульптора.
Скопас (380-330 гг. до н.э.) родился на острове Парос, где добывали мрамор, работал в Аттике, в городах Пелопоннеса и в Малой Азии. Его творчество, говорят, чрезвычайно обширное, сохранилось лишь в нескольких обломках и позднейших римских копиях.
Сохранился фрагмент фриза Галикарнасского мавзолея - гробницы правителя персидской провинции Карии Мавсола в городе Галикарнассе в Малой Азии, сооруженной греческими зодчими Сатиром и Пифием, а в работе над скульптурным убранством принимал участие и Скопас. На фрагменте фриза (Лондон. Британский музей.) - битва греков с амазонками. Скопас следует за Фидием, но его фигуры даны в резкой динамике поз и жестов, когда борьба достигает крайнего напряжения.
От храма Афины в Тегее, строителем которого был Скопас, у него была слава и зодчего, сохранился лишь один обломок. Это «Голова раненого воина» (Афины. Национальный музей.), которая выражает все страдание человека и весь трагизм бытия, как голова Орфея, плывущая по морю.
![Петр Киле - Опыты по эстетике классических эпох. [Статьи и эссе]](https://cdn.my-library.info/books/200213/200213.jpg)